 Современные технологии по обустройству зданий
|
Главная \ Интересные статьи \ Черно-белое кино.
Черно-белое кино.Двадцатый век был веком документальной фотографии. Мы привыкли видеть в снимке свидетельство времени, иллюстрацию к репортажу, официальный документ. Но со временем фотография приобрела новый статус – самостоятельного художественного произведения, объекта коллекционирования, элемента дизайна. – Когда ты впервые понял, что фотография ближе к живописи, чем к документу? – Думаю, я всегда это понимал. По образованию я художник-график, поэтому я никогда не воспринимал себя как чистого фотографа. Я художник, который взял в руки фотоаппарат, перешел от литографского камня к камере. – Твои фотографические работы действительно не похожи на обычную фотографию. Ты можешь объяснить, как ты добиваешься «живописного» эффекта? – Элементарно. В фотографии это называется многократной экспозицией: ты снимаешь, например, кусок мрамора, потом накладываешь слайдовые изображения одно на другое, и получается такой странный эффект. Мне всегда нравился мрамор в московском метро. Иногда мраморные панели подсвечиваются, и тогда они смотрятся как удивительная живопись. – Какая роль у фотографии в интерьере? Это смысловой центр, или цветовое пятно, или окно в другой мир? – В зависимости от того, что это за фотография. По тем работам, которые у меня покупают, я вижу, что люди воспринимают некоторые мои фотографии как отражение каких-то собственных ассоциаций. Будь то пейзаж, портрет или натюрморт – это набор ассоциаций, которые переводят человека в некое идеальное пространство. Есть у меня, скажем, серия «Сталинский ампир». Очень странные, романтичные изображения сталинских высоток. Мне иногда говорят: «Как же ты не понимаешь, что это было за время, страшное, связанное с массовыми репрессиями, лагерями». Но мои работы не имеют никакого отношения к реальности. Это как сталинское кино, которое отражало не действительность, а миф. Реально его никто не воспринимает, и все же оно было частью той жизни. «Сталинский ампир» – это отражение мифа. Кстати, первым, кто оценил серию целиком, был Питер Гринуэй. Он приезжал на Московский кинофестиваль и, увидев в кафе «Мезонин» мои фотографии, хотел их купить. Но так как для меня это художник номер один, то я их ему просто подарил. А вот моя новая техника, зеркальная, – нечто совсем другое. В этих работах есть что-то напоминающее о спиритических сеансах, о гадании, – о всем, что связано в нашем представлении с образом зеркала. Они более интерьерны, чем обычные, потому что впитывают в себя окружающее пространство. Отраженное изображение – Почему ты не работаешь с цветом? Твои фотографии всегда монохромные, черно-белые. – Монохромность – вынужденная вещь. Цвет очень трудно контролировать: он может очень сильно исказиться при печати, и тогда все теряет смысл. Даже при изменении на минимальный процент одного цвета по отношению к другому все разрушается. Если ты хочешь просто показать, что небо синее, а трава зеленая – это одна история, а если говорить о цвете как о художественном инструменте, такая приблизительность неприемлема. Я же из художественной среды, поэтому мое восприятие цвета очень тонкое. Мне нравится, например, сочетание различных оттенков белого цвета. Допустим, натюрморт из одних белых предметов. У каждого из них свой оттенок белого цвета. Для тех, кто далек от живописи, это будет черн-0белая фотография, а для тех, кто с ней знаком, – тонкая светопись. В новых работах в технике эгломизе есть что-то, напоминающее о спиритических сеансах. Они более интерьерны, чем обычные, потому что впитывают в себя окружающее пространство. «Ню», техника эгломизе. – Расскажи, пожалуйста, как возникают темы твоих работ. У тебя есть большие серии на ту или иную тему. Как, например, появились «Руки»? – «Руки» мне предложили делать, когда я снимал «Спины». Странно, но в тот же год у меня появились еще и «Глаза». Какая-то расчлененка получилась. Но, кстати, очень интересная оказалась тема. – Специалисты говорят, что бывают тупые руки, бывают нервные. И даже руки преступника. Об этом есть рассказ у Цвейга, он называется «Двадцать четыре часа из жизни женщины». – Я знаю, что все женщины внимательно смотрят на руки. Мы, мужчины, гораздо меньше обращаем на это внимание. Вот эти странные изломы, форма… Руки действительно бывают очень выразительные, воплощение чувственности, особенно у людей творческих, утонченных.
– У тебя есть любимые модели? Я знаю, что ты любишь снимать Ренату Литвинову… – Ну, Рената просто мой товарищ, мы с ней дружим. Но мне действительно нравится с ней работать, потому что удается создавать разные образы. При том, что это всегда Рената, она узнаваема, но роли разные. Я считаю, что самое главное – побороть тот стереотип, который уже возник. Есть люди, с которыми это получается. Илзе Лиепа, Елена Морозова, моя приятельница балерина Инна Гинкевич… Мне говорят: «Они же непохожи!» А я никогда не ставил задачу сделать фотографический портрет. Я делаю из человека персонажа моего собственного фильма. Недавно прошла выставка современного искусства. Я случайно попал в компанию Кабакова, Нестеровой, Брускина. Критик «Нью-Йорк Таймс» увидел в моих работах театральную основу. Первое, что ему пришло в го_ лову, – это система Станиславского. Конечно, к Станиславскому мои работы не имеют никакого отношения, но наличие некой системы он угадал. В каждой фотографии, которую я делаю, присутствует сценарное начало. Сначала появляется какой-то образ, существующий в моем воображении, а потом уже портрет. Я не могу снять фильм целиком, поэтому делаю один-два-три кадра. Если зритель чувствует то, что осталось за пределами съемки, значит, я работал не напрасно. – Ты никогда не пытался работать в кино? – Надо же объективно себя воспринимать. Для меня кино – потусторонний мир. Система монтажа, к примеру, мне абсолютно непонятна. Я вижу картинки, но не движение. – Насколько мне известно, только ты «одеваешь» свои фотографии в массивные резные рамы, которые сами по себе являются произведением искусства. Ты не боишься, что декоративность рамы будет подавлять изображение? – Нет, потому что рама воспринимается как продолжение работы и в то же время соединяет ее с пространством, в котором она будет находиться. Три работы из серии «Вишневый сад», фотопечать на матовой бумаге потому что они понятны только здесь. Или потому, что получили здесь известность, а за границей они абсолютный ноль. В искусстве это часто бывает. Мне хотелось такой барьер убрать. И это получилось: в Париже, Нью-Йорке или Лондоне у меня продается почти то же, что здесь. Пытаются, конечно, привязать тебя к какой-то национальной специфике. Если ты, скажем, африканский фотограф – просят, чтоб было больше Африки. – Тебя представляют как русского фотографа? – Ты знаешь, я все-таки добился, чтобы меня представляли как классического русского фотографа. А иногда и вовсе не указывают национальность. – У нас-то в глянцевых журналах тебя представляли как испанца. Я всегда хотела спросить, где тут правда, а где рекламный ход? – Мой отец приехал в Россию из Латинской Америки по работе, остался здесь, женившись на моей маме, и работает на испанском радио, которое вещает на Испанию и Майами. Я, по-моему, был одним из первых детей, родившихся в браке между советской женщиной и латиноамериканцем, потому что в сталинские времена это было невозможно. Маму, я помню, долго таскали по КГБ, как же она осмелилась. Я представляю себе, что это пространство классическое, потому что работы дорогие и можно догадаться, куда они попадут. Началось все с того, что мне хотелось освободиться от материальной зависимости в искусстве. Долгое время я работал для модных журналов, чтобы иметь возможность снимать «для себя», не думая о деньгах, но оказалось, что совмещать эти вещи очень сложно. Одно начинает вытеснять другое. Нужно было найти форму, которая позволит поднять статус фотографии, и я ее нашел. Дело в том, что фотографию везде показывают одинаково. – Твои работы продаются не только в Москве, но и в Париже, Нью-Йорке и Лондоне. Различается ли отношение к фотографии в России и за ее пределами? – Я всегда считал, что профессионал – тот человек, который может перемещаться и жить где угодно. Есть люди, которые могут выставляться только в России, выйти замуж за иностранца. – Ты хорошо знаешь испанский? – Я говорю, но при отце очень редко. Была дурацкая история (сейчас думаю, не дай Бог мне ее повторить со своими детьми): что-то мы с братом сказали неправильно, он нас поправил в резкой форме, посмеялся, и с тех пор мы перестали говорить по-испански, хотя все понимали. – А профессиональные фотографы в семье были? – Со стороны мамы у меня все художники: дедушка, бабушка, тетя. Я и родился в Доме художника на Верхней Масловке. Все, кто появлялся на свет в этом доме с огромными мастерскими, просто должны были идти по художественной части. Правда, другой мой дед, действительно, был фотографом, но я его никогда не видел. Хотя наверняка мне и от него что-то передалось… «Сталинский ампир»– это очень странные, романтичные изображения сталинских высоток. Мои работы не имеют никакого отношения к реальности. Это как сталинское кино, которое отражало не действительность, а миф.
|
Все торговые знаки и прочие объекты интеллектуальной собственности принадлежат их владельцам



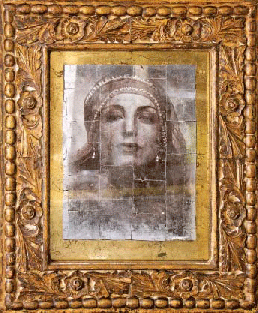
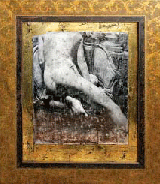 соединяется с фотографией, и чем богаче интерьер, тем глубже становится работа. Меняется угол зрения – меняется и фотография. Эта техника была придумана еще в XIII веке, а в XVIII веке получила то название, под которым дошла до наших дней – эгломизе, в честь француза Гломи. Он делал гравюры на стеклянной пластине, покрытой тонким слоем сусального золота. В технике эгломизе выполняли украшения для дворцовой мебели. А соединить ее с фотографией мне пришло в голову, когда в Москве появились состаренные зеркала, их делал Марат Ка. Это был случайный ход, и только потом, от своего соседа, который работает в Пушкинском музее и считается одним из лучших специалистов по миниатюре, я узнал, что пользуюсь изобретением Гломи.
соединяется с фотографией, и чем богаче интерьер, тем глубже становится работа. Меняется угол зрения – меняется и фотография. Эта техника была придумана еще в XIII веке, а в XVIII веке получила то название, под которым дошла до наших дней – эгломизе, в честь француза Гломи. Он делал гравюры на стеклянной пластине, покрытой тонким слоем сусального золота. В технике эгломизе выполняли украшения для дворцовой мебели. А соединить ее с фотографией мне пришло в голову, когда в Москве появились состаренные зеркала, их делал Марат Ка. Это был случайный ход, и только потом, от своего соседа, который работает в Пушкинском музее и считается одним из лучших специалистов по миниатюре, я узнал, что пользуюсь изобретением Гломи. Вообще-то темы обычно начинают кружиться вокруг какой-то одной, глобальной. У меня есть одна большая тема – тема поколения. Одно время я болезненно воспринимал разговоры о том, что мое поколение не создало ничего нового в искусстве, и поэтому хватался за людей, которых считал талантливыми, как за какие-то островки. До сих пор жалею, что не успел снять тех, кого сегодня уже нет в живых.
Вообще-то темы обычно начинают кружиться вокруг какой-то одной, глобальной. У меня есть одна большая тема – тема поколения. Одно время я болезненно воспринимал разговоры о том, что мое поколение не создало ничего нового в искусстве, и поэтому хватался за людей, которых считал талантливыми, как за какие-то островки. До сих пор жалею, что не успел снять тех, кого сегодня уже нет в живых.
 Или она накатана на какую-то твердую основу и демонстрируется без всякой рамы, или это черная рама и белое паспарту. Никто не оформляет фотографию так же дорого, как живопись. Но если ты обратишь внимание на снимки с интерьеров начала прошлого века, то увидишь фотографии в таких рамах, которые являются продолжением работы. И это все меняет. Конечно, это был принципиальный шаг оформить фотографию, как живопись музейного уровня.
Или она накатана на какую-то твердую основу и демонстрируется без всякой рамы, или это черная рама и белое паспарту. Никто не оформляет фотографию так же дорого, как живопись. Но если ты обратишь внимание на снимки с интерьеров начала прошлого века, то увидишь фотографии в таких рамах, которые являются продолжением работы. И это все меняет. Конечно, это был принципиальный шаг оформить фотографию, как живопись музейного уровня.